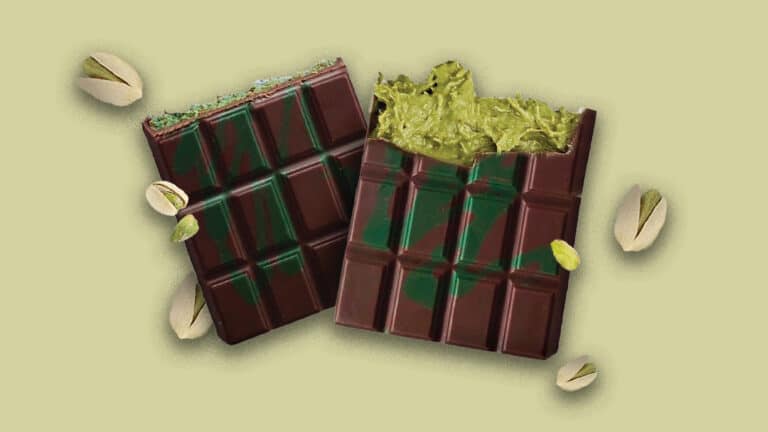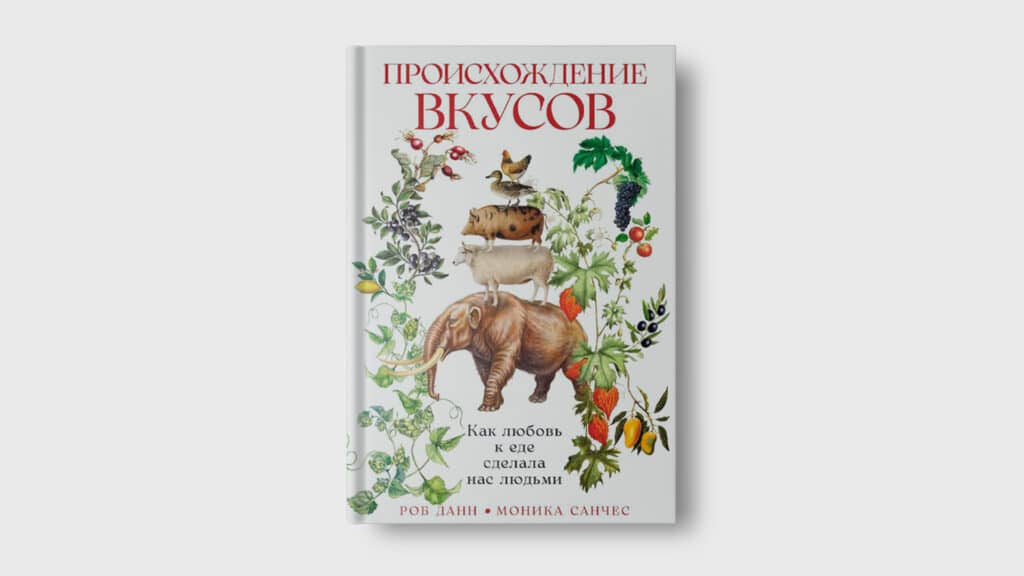
Ученые-биологи Роб Данн и Моника Санчес написали книгу «Происхождение вкусов» (русский перевод сейчас выходит в издательстве «Альпина нон-фикшн») как будто в защиту старой сентенции о том, что человек есть то, что он ест.
Из многочисленных попыток объяснить человеческое поведение волей к власти, гегелевской спиралью истории, классовой борьбой, бессознательным или теориями заговора авторы предпочли версию американского гастрономического журналиста Эрика Шлоссера, который не устает писать о том, что человеческое пристрастие к вкусному и есть основная движущая сила существования, только непризнанная и недостаточно исследованная. Кухня — это важнейшая эволюционная инновация, которая почти не встречается в природе и наиболее развита только у человека и еще у шимпанзе.
Данн и Санчес утверждают, что питание древних было связано с выживанием, а наше – преимущественно с удовольствием, стало быть, именно пробуждение вкуса сделало нас людьми. Только человек освоил приготовление пищи, смешивая различные ингредиенты. Что с этим делать дальше, авторы умалчивают, предпочитая в основном апеллировать к биологическому прошлому и задаваться вопросами, вроде:
«Наслаждаясь едой, мы гадали, какие вкусы доставляли удовольствие древним людям. Был ли, например, у пастухов-циклопов любимый сорт сыра? Какие ягоды предпочитали палеолитические охотники-собиратели? Насколько далеко мог забрести неандерталец в поисках самой вкусной дичи?»
Надо признать, что золотая эра идеологических книг о еде, очевидно, осталась в прошлом. Последний всплеск подобной литературы пришелся на вторую половину нулевых годов и начало десятых. Тогда приставка гастро- стала популярнее приставки пост- и под видом кулинарных рекомендаций издавались настоящие манифесты едоков, в диапазоне от скандальной «Дилеммы всеядных» Майкла Поллана до исповедей поваров-визионеров, типа Джейми Оливера и Хестона Блюменталя.
Сейчас в этом литературном сегменте все стало несколько скромнее – головокружительных идей никто не выдвигает, все ушло в чисто познавательную рецептуру и коучинг людей, именующих себя фуд-стилистами, иногда с элементами биографии и success story. Таковы, например, прошлогодние мемуары Айны Гартен, ведущей телешоу «Босоногая графиня» и основательницы одноименного магазина, женщины, которая прославилась в Америке своей предельно калорийной и жирной стряпней.
В этом смысле книга «Происхождение вкусов» являет собой забавное исключение. Не то чтобы она тянет на новый манифест едока (да и задачи такой, очевидно, не было), однако в ней по меньшей мере есть стремление представить обновленную картину мира, выдержанную в пищеварительном мажоре.
Гастрономическая дилемма
В «Происхождении вкусов» много говорится о теме кулинарного вымирания и утраченных пиров. Подобно тому неандертальцу в поисках самой вкусной дичи, авторы устремляются в отдаленное прошлое, поминая Гомера и надеясь вычислить, каковы на вкус были мамонт и короткомордый медведь.
Как сказано в книге: «Когда вы едите манго или даже грушу, вы вгрызаетесь в сложную историю вкуса и вымираний. Это история о вкусах, которые когда-то нравились большим животным, а в итоге нравятся и нам».
Некоторые из цитируемых в книге исследователей даже полагают, что человеческий мозг приобрел большие размеры в последние несколько миллионов лет, чтобы лучше классифицировать окружающие нас виды растений и животных на предмет их запахов, а стало быть, вкусовых качеств.
В этой связи интересно подумать о вкусовых привычках обитателей СССР, когда сотни миллионов людей за небольшими исключениями до 1991 года так или иначе существовали за железным гастрономическим занавесом.
Всякий, кто вырос в Советском Союзе, не может не отметить тот поистине цивилизационный скачок, который сегодня можно наблюдать, зайдя в любой фудкорт практически в любой точке России и ее бывших сателлитов – по сравнению с соответствующим ассортиментом объединенной отчизны. Это почти сопоставимо с разницей в тот самый миллион лет, в течение которого человеческий мозг научился классифицировать запахи и вкусы.
Здесь уместно будет припомнить популярное признание Бориса Гребенщикова, впервые угодившего в Америку во второй половине восьмидесятых и с удивлением обнаружившего, что у еды, с его слов, оказывается, может быть вкус. Даже если сделать известную скидку на велеречивость признанного мастера метафоры, все равно нельзя не признать, что целые поколения в самом деле жили и умерли, не подозревая, что на свете бывают том-ям, поке или артишоковый дип. Стали ли они от этого примитивнее или несчастнее — большой вопрос.
Одно дело — родиться и быть воспитанным в определенной гастрономической традиции, как, например, обитатели Тосканы, и другое — получить круглосуточный доступ к продуктам со всего мира. Первое, очевидно, как-то определяет сознание, второе – не факт. Об этой дилемме Роб Данн и Моника Санчес ничего не пишут, предпочитая при первом же удобном случае переключиться на диету шимпанзе, что жаль, ведь это по-настоящему интересно.
Иногда авторы немного тонут в деталях и скромничают с выводами, иногда дословно (причем почему-то без сносок) повторяют теорию умвельта немецкого биолога Якоба Иоганна Икскюля. Например, когда пишут:
«Будь то в лесу на охоте за трюфелями вместе со свиньей или собакой либо перед миской с едой, вы, свинья и собака существуете в разных мирах. Мы упускаем что-то из доступного свинье или собаке, но и они упускают что-то из доступного нам».
Но в целом это весьма остроумная и запоминающаяся работа с афоризмами, вроде «война между растениями и травоядными нигде и никогда полностью не заканчивалась» и обилием затейливых деталей. Например, крупным млекопитающим в силу длинного кишечника нужно меньше сахара на порцию пищи, и условному слону любая травинка по определению кажется сладкой, в то время как мармозетки наоборот отчаянно нуждаются в насыщенных сахаром плодах и нектарах. Человек, как водится, находится в середине этого спектра и то, что в ходе эволюции стало сладким, чтобы привлекать мелких млекопитающих, мы воспринимаем уже как совершенно восхитительное.
Шимпанзе, как выяснилось, тратят энную часть светового дня на выуживание муравьев, а гориллы в клетках постепенно привыкают есть ту же пищу, что и служители зоопарка. Наконец, из книги становится, наконец, ясно, почему морковь и редис обладают вкусом в сыром виде, в то время как остальные корнеплоды лишены этого свойства, и с какой стати собаки с их ортоназальным обонянием ищут абсолютно безразличные им трюфели.
Есть нечто трогательное в том, что некоторые черты древних мы сохраняем до сих пор, причем под видом того или иного изыска – например, едим устриц в первозданном виде (распространенная новоорлеанская манера их жарить не в счет). Иными словами, то, что ассоциируется с условно рафинированным вкусом, на самом деле есть просто отголосок нашей варварской природы. Хотя, разумеется, сам факт изобретения устройств для вскрытия двустворчатых – это несомненный индикатор человеческого прогресса.