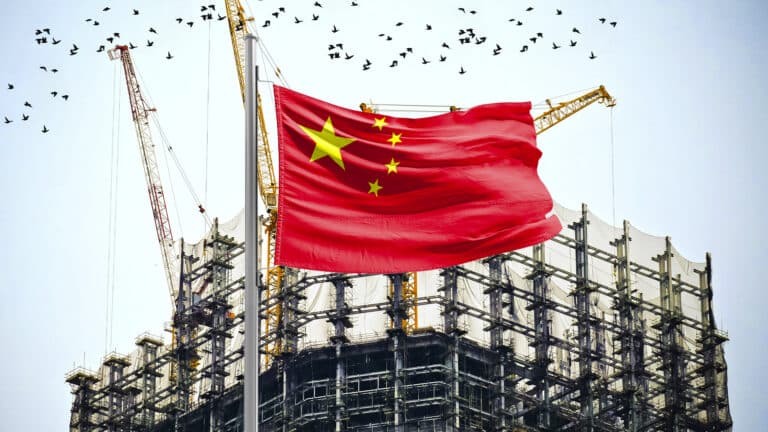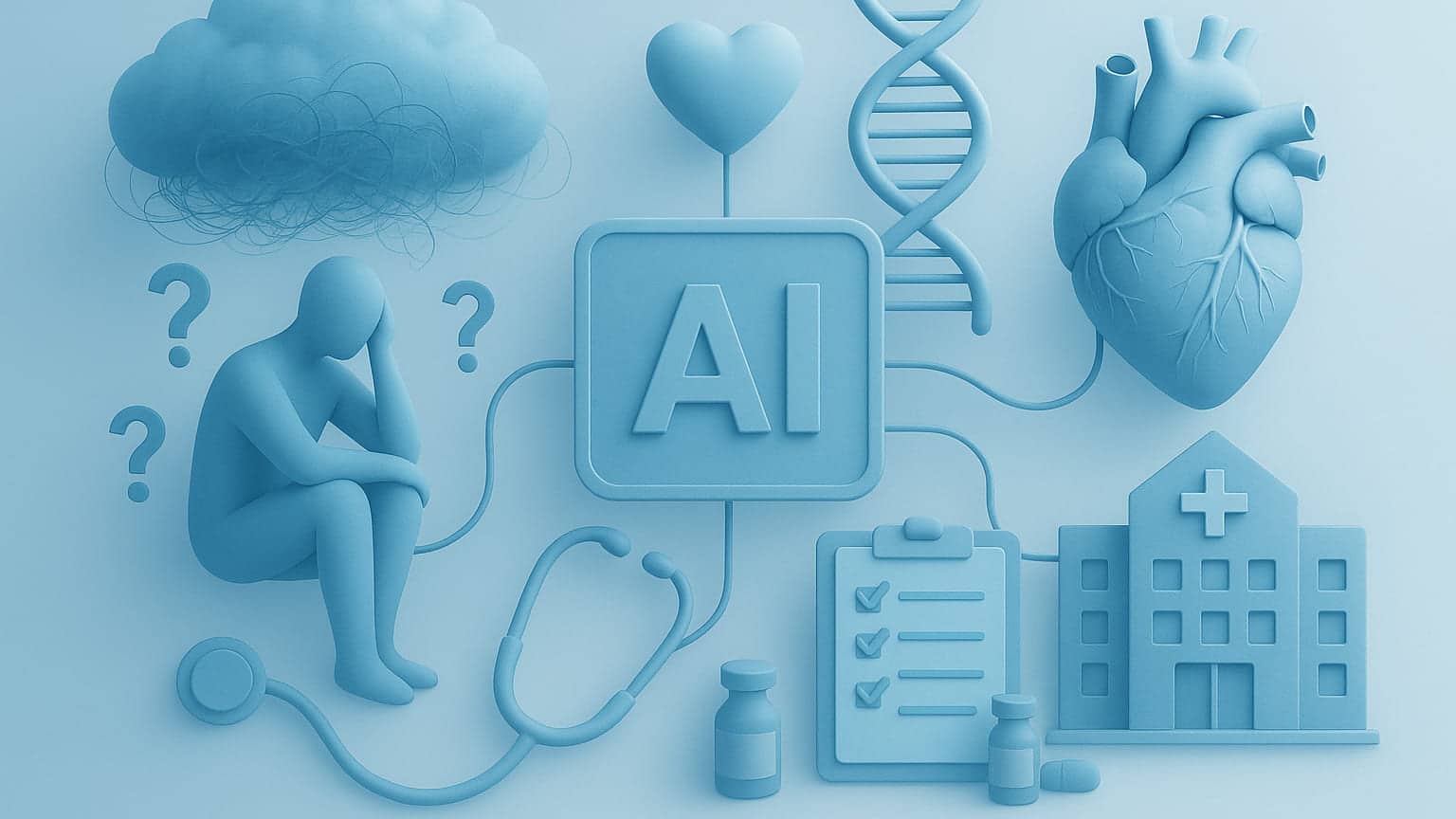
Каждый участник системы здравоохранения видит искусственный интеллект по-своему. Пациент думает о безопасности и понятности рекомендаций. Врач — сэкономит ли ИИ время или создаст новые ошибки, сложно ли обучиться его использованию. Владелец клиники — о вложениях и окупаемости. Разработчик — о сложностях и перспективах внедрения новых технологий. Государство — о масштабировании и доверии общества. Если не учесть мнения всех сторон, любое внедрение застопорится: пациент не даст согласие на обработку своих медицинских данных, врач не будет пользоваться инструментом, разработчик уйдет на другой рынок, клиника не выделит бюджет, государство может затормозить процесс.
Об этом и о реальных примерах использования ИИ в медицине рассказывает Олжас Абишев — бывший вице-министр здравоохранения Казахстана и международный эксперт по искусственному интеллекту в медицине.
Вместо страха — польза
«Курсив»: Искусственный интеллект (ИИ) для многих людей сложная, непонятная и порой пугающая тема. Некоторые люди считают, что обсуждать ИИ в медицине еще рано. А как думаете вы?
Олжас Абишев: Я думаю, что мы не можем противостоять технологическому прогрессу. Либо мы будем с этим прогрессом вместе развиваться и получать выгоды, либо мы просто останемся вне его. Сейчас человек не представляет жизнь без смартфона, и кого-то убеждать, что ему нужно это устройство, уже не надо. С ИИ будет так же.
Проблема в том, что технологии развиваются быстрее, чем человек успевает их осваивать. С момента изобретения лампочки Ильича прошло более ста лет, и люди привыкали к ней десятилетиями. А генеративный искусственный интеллект показал взрывной рост буквально за годы. Мы не успеваем привыкнуть к технологиям, чтобы их использовать.
Возьмем ChatGPT: теперь у него появилась функция агента. Вы ставите ему задачу, а он сам ищет информацию, заходит на сайты, обрабатывает данные, структурирует их и предоставляет готовый отчет. Это как помощник, который делает работу за вас. И чтобы использовать такие инструменты с пользой, людям нужно учиться с ними взаимодействовать. Но вопрос в том, успеем ли мы адаптироваться к этим новым изменениям.

ИИ для пациента: доверять ли диагностику чат-боту?
«Курсив»: Вы затронули интересную тему. Сейчас чат-боты уже могут отвечать на медицинские вопросы. Как вы считаете, может ли ChatGPT в чем-то заменить врача или такого цифрового помощника стоит использовать только вместе с врачом, как вспомогательный инструмент?
Олжас Абишев: Использовать можно, но аккуратно. Если задавать медицинский вопрос без контекста «у меня болит голова», не прикладывая анализов, анамнеза, истории болезни, то использование ИИ несет риски. Это как если ввести в Google симптомы, а он в ответ напугает онкологическим заболеванием. Если же загрузить в ChatGPT амбулаторную карту и другие важные данные, то это снижает риск «галлюцинаций» и повышает точность ответа.
Пациентов нужно учить правильно задавать вопросы и предоставлять необходимые документы для правильного анализа. Это актуальные навыки нашего времени. Мы уже проводим пилотные проекты, где помогаем пациентам грамотно использовать чат-боты (ChatGPT, Grok, Gemini), интерпретировать свои анализы и получать ответы на медицинские вопросы.
«Курсив»: Вы работаете с реальными данными пациентов. Можете привести пример, как искусственный интеллект помог в сложной ситуации?
Олжас Абишев: У нас уже есть результаты нескольких социальных проектов в Казахстане. Один из самых показательных случаев — девочка с комплексом заболеваний, которые усугубляли друг друга. Каждый профильный врач ставил свой диагноз, но общего понимания, что именно ухудшает состояние, не было.
Мы попросили маму этой девочки запросить в Минздраве амбулаторную карту, историю болезни и все данные о полученных медицинских услугах за последние пять лет. Где-то 520 Гб данных, вместе с данными научных исследований по ее заболеваниям, мы загрузили в нашу модель на базе LLaMA 3.1. Ее мать вела подробный дневник состояния дочери: когда она проснулась, как себя чувствует, какие лекарства принимает. Мы предупредили маму, что это не замена врача, а третье мнение, к которому она может обратиться, если ее что-то не устраивает в консультации врачей.
На декабрь 2024 года у девочки было по 4–5 эпилептических приступов в день, причина оставалась неизвестной. Сейчас — уже третья неделя без единого приступа. Расходы на лекарства снизились почти в пять раз — с 70 до 15 тысяч тенге в месяц, без ухудшения состояния.
«Курсив»: Вы упомянули, что ИИ помогает точнее подбирать лечение. Во время пандемии COVID-19 мы особенно сильно столкнулись с проблемой неэффективного лечения: от избыточного назначения антибиотиков до массового использования фуфломицинов. Может ли ИИ помочь с этим справиться?
Олжас Абишев: По данным ВОЗ, от 20% до 40% средств в здравоохранении тратятся неэффективно — из-за ненужных назначений и процедур. Чтобы решить эту проблему, мы разбиваем работу ИИ на два ключевых слоя.
Первый слой — персонализация. Обученная модель ИИ учитывает физиологию пациента и его переносимость препаратов. Она сразу отсеивает лекарства, которые ему не помогут, и предлагает те, что дадут наибольший эффект.
Второй слой — проверка взаимодействий. Сейчас врач, назначая 7−8 препаратов, не всегда знает, какие лекарства могут быть совместимы или несовместимы. На исследования таких взаимодействий тратятся огромные суммы. А искусственный интеллект может проанализировать структурные и фармакологические свойства, а затем выявлять опасные комбинации и учитывать индивидуальные особенности пациента.
В последнее время многие фармкомпании применяют ИИ в разработке новых препаратов. Если раньше на разработку нового лекарства уходило 5–10 лет, то теперь этот срок можно сократить до полутора лет, а на этап создания молекулы — до месяца-полутора. Это огромная экономия средств.
ИИ для врача: помощник или конкурент?
«Курсив»: Переходя на уровень врача, я хочу спросить, что вы думаете по поводу обучения использованию искусственного интеллекта во врачебной практике? Кто-то сейчас может решить: «Это не для меня, я недостаточно технически подкован». Как искусственный интеллект уже сейчас может помочь врачу и насколько сложно научиться его использовать в работе?
Олжас Абишев: Когда мы начинаем рассказывать врачам об ИИ, первый вопрос: «А я потеряю работу?». Мы всегда говорим, что нет, искусственный интеллект не заберет вашу работу. Но врач, умеющий работать с ним, заменит врача, который не будет работать с ИИ. Это конкурентное преимущество.
Первый момент. Сейчас даже профессор без WhatsApp или Instagram проигрывает врачу, который использует цифровые коммуникации: у последнего может быть в разы больше клиентов. А чем больше клиентов, тем выше заработок.
Второй момент. С помощью искусственного интеллекта вы можете консультировать не 20 человек в день, а тысячу — автоматически. Часто задаваемые вопросы пациентов, на которые есть простые ответы, система обрабатывает сама, а до специалиста доходят сложные и нестандартные случаи. Это позволяет врачу сосредоточиться на действительно важных задачах и больше заработать.
Третий момент. В прошлом году только по онкологическим заболеваниям вышло 8000 публикаций. Я не встречал еще ни одного врача, который успевал бы это прочитать, это нереально. ИИ может проанализировать этот поток и предложить врачу персональные рекомендации, позволив врачу сэкономить время. И это не фантастика. Мы с командой вот это объясняем врачам.
Четвертый момент. Самое большое преимущество ИИ — теперь вообще нет языкового барьера. Раньше, чтобы врач мог прочитать статью на английском или китайском, нужно было искать перевод, тратить время, был целый рынок переводов. С искусственным интеллектом — хотите изучайте на казахском, хотите на русском, на любом языке. Более того, ИИ может не только перевести, но и сделать краткое резюме, объяснить простыми словами, выделить самое главное. Это грандиозная экономия времени и совершенно другой уровень доступа к знаниям.
ИИ для разработчиков: три рынка — три проблемы
«Курсив»: Сейчас ИИ помогает быстро обрабатывать большой массив информации. В каком направлении стоит развивать медицинский искусственный интеллект? Какие решения действительно востребованы? И с какими трудностями чаще всего сталкиваются команды, которые делают ИИ для медицины?
Олжас Абишев: У меня есть опыт работы в Индии, в Эмиратах и в Казахстане, и в трех странах разные проблемы внедрения и применения ИИ.
В Индии — малое количество врачей на огромное количество населения. ИИ востребован для дистанционных консультаций, анализа лабораторных данных, автоматизации рутинных задач. Нам в клинике Дели удалось перераспределить работу 40% сотрудников с рутинных задач на работу с пациентами.
В Казахстане государственные клиники не сильно горят внедрением искусственного интеллекта, потому что он оптимизирует внутренние расходы, а значит, больница будет меньше получать денег из фондов страхования. Прозрачность работы ИИ показывает реальную картину заболеваемости и финансов — а не «нарисованную» статистику. Это не всегда выгодно руководству. Были и случаи, когда на одного пациента оформляли оплату сразу из трех источников, а ИИ это легко выявляет. Поэтому и государственные, и частные клиники зачастую боятся прозрачности.
В Арабских Эмиратах государство поощряет клиники для того, чтобы пациенты реже обращались за ненужными услугами. Им выгодно внедрять ИИ: за это получают больше финансирования. Такой подход мотивирует использовать новые технологии для повышения эффективности медицины.
Главный вызов для всех — это регулирование. В Казахстане сейчас в мажилисе обсуждается закон об искусственном интеллекте. Я сам являюсь членом рабочей группы по этому законопроекту. К сожалению, в мажилисе рассматривают закон, который запрещает развитие автономного искусственного интеллекта именно в медицине. Меня это сильно огорчает. И не только меня, в группе состоит 65 экспертов по искусственному интеллекту, и все они выступают против таких ограничений. Если закон примут, Казахстан рискует остаться на обочине мирового развития.
ИИ для клиник: как уменьшить расходы и улучшить качество услуг?
«Курсив»: Какие преимущества дает клиникам внедрение искусственного интеллекта? Как объяснить владельцам и руководителям, зачем им это нужно?
Олжас Абишев: Первая проблема — коммуникация с пациентами. Очень много недовольных людей звонят в колл-центр, требуют внимания, жалуются. Это легко решить. Искусственный интеллект тут незаменим: его невозможно разозлить, он всегда выслушает, запишет на прием, все зафиксирует. Такой ассистент не устает и может вести разговор хоть часами.
Вторая проблема — пациенты хотят, чтобы врач смотрел им в глаза, внимательно слушал жалобы, а не отвлекался на заполнение бумаг. Можно поставить микрофон и ИИ с распознаванием речи. Он будет слушать пациента и сразу заполнять всю медицинскую документацию по утвержденным протоколам Минздрава. Врач все это время может общаться с человеком, а в конце просто проверить готовый текст и подтвердить его. Такой принцип уже работает в ChatGPT: вы говорите, модель преобразует речь в текст, формирует запрос и выдает результат. Тот же подход можно внедрить и в клиниках.
Третья проблема — обзвоны пациентов. Сейчас в частных клиниках это делают вручную. ИИ может автоматизировать обзвон, делать это по индивидуальным данным: обращаться по имени, предлагать чекапы или консультации у конкретных врачей с высоким рейтингом, подбирать удобное время.
Четвертая проблема — ошибки и отчетность. Врачи перегружены, отчеты часто заполняются с ошибками. Чтобы избежать штрафов, клиники нанимают отдельный отдел для проверки. Все это может взять на себя ИИ: он исправляет, дополняет, доводит до нужного стандарта. По моему опыту, у ИИ ошибок в 15 раз меньше, чем у человека.
ИИ и государство: как сэкономить миллиарды тенге?
«Курсив»: Внедрение ИИ дает колоссальную экономию ресурсов, улучшает качество и эффективность системы. Какие главные барьеры сейчас в использовании этих возможностей на уровне государства?
Олжас Абишев: В конце 2018 года, будучи вице-министром, я своим приказом отменил бумажные амбулаторные карты, и теперь у всех граждан Казахстана есть электронные паспорта здоровья, привязанные к уникальному идентификационному номеру. Вся медицинская информация по каждому человеку хранится в цифровом виде, и Минздрав располагает огромным массивом оцифрованных данных.
Сейчас эти данные собираются для статистики: сколько людей заболело, сколько умерло, сколько болеет сейчас, сколько операций провели. Но ничего не мешает эти данные анализировать и прогнозировать, сколько понадобится лекарств, койко-мест, сколько людей заболеет тем или иным заболеванием через несколько лет.
Я уже третий месяц хожу по кабинетам Минздрава, предлагая бесплатно внедрить ИИ-модуль, который мы сделали, чтобы на основе этих данных прогнозировать реальные потребности системы. Международные компании за такие решения берут от 7 миллиардов тенге и выше. Если такой модуль внедрить, это дало бы экономию до 600 миллиардов тенге (1,1 млрд долларов) в год — эти деньги можно направить на операции детям, на лекарства для нуждающихся.
Примечание: Ситуация перекликается с последними заявлениями президента Касым-Жомарта Токаева. На совещании по вопросам ИИ он подчеркнул, что в здравоохранении накоплены огромные массивы данных, которые можно использовать для диагностики, подбора лечения и мониторинга пациентов. По его словам, внедрение ИИ тормозят бюрократия и фрагментарное развитие медицинских информационных систем, что уже приводит к нарушениям. В частности, аудит Фонда социального медицинского страхования в 2024 году выявил крупные финансовые потери. Токаев отметил, что цифровые подходы способны сделать работу медицинской отрасли прозрачнее и эффективнее.
«Курсив»: В мире активно развиваются национальные биобанки — например, британский UK Biobank. Благодаря им исследователи и врачи получают доступ к крупным массивам данных, которые используются для разработки клинических протоколов и новых подходов к лечению. Планируются ли подобные проекты в Казахстане?
Олжас Абишев: В 2019 году, когда я входил в состав национального технического совета, была целая научная программа при Назарбаев Университете, где составляли электронную карту жителей Казахстана. Планировалось собрать биобанк на 50–60 тысяч человек, чтобы создать генный паспорт. Тогда на проект выделялись средства, но с тех пор никаких результатов я не видел — ни в открытых, ни в закрытых источниках.
Крупные компании и государства стремятся понять влияние новых лекарств на генетические особенности своего населения. Это важно и для фармбизнеса, и для науки, чтобы прогнозировать, как препараты будут работать у людей с разным геномом. Например, многие казахстанцы заказывают лекарства из Турции или России, потому что те дают лучший эффект, возможно, из-за различий в химическом составе или особенностей метаболизма у разных этнических групп. Есть исследования, показывающие разную эффективность одних и тех же препаратов у разных народов. Если бы у нас был полноценный цифровой геномный паспорт, мы могли бы принимать более обоснованные решения с точки зрения доказательной медицины, но пока этот проект, к сожалению, не реализован.
Что если Минздрав скажет «да»?
«Курсив»: Если завтра Минздрав поддержит ваш проект, что будете делать дальше?
Олжас Абишев: Первым делом я бы предложил прогнать уже проверенную нами модель — ту, что помогла в социальных пилотных проектах, например, с девочкой-подростком. Мы можем через нашу модель ИИ прогнать оказанные медицинские услуги за 2024 и 2025 годы, которые сейчас хранятся в Минздраве, и выявить, что могли упустить.
Приведу пример: в одном из наших проектов дочь пациентки с онкологическим заболеванием загрузила все архивы обследований матери: результаты МРТ, КТ, заключения врачей. ИИ выявил, что на МРТ еще в декабре 2024 года уже были признаки опухоли, но врач их тогда не заметил и не описал в заключении. Такие ошибки можно находить заранее с помощью искусственного интеллекта, чтобы не допускать их в будущем.
Второй шаг — перейти от формального планирования объемов медицинской помощи к реальному прогнозированию на основе данных. Сейчас Минздрав просто собирает заявки от больниц, кто сколько услуг планирует оказать, и складывает их в итоговую цифру. Но на самом деле объемы могут отличаться в разы. Если анализировать настоящие данные, можно точнее планировать расходы и потребности системы здравоохранения. Да, это вызовет вопросы к прошлым управленцам: почему раньше так не делали? Но без перехода к анализу реальных данных система не станет эффективной.
«Курсив»: Спасибо, мы обсудили очень много и на разных уровнях. Считаю, важно как можно чаще рассказывать о ценности искусственного интеллекта — он уже сегодня спасает жизни. Тем более у нас есть международный опыт, на который мы можем опираться и видеть, что это работает.
Олжас Абишев: Абсолютно верно. Конечно, у любой технологии есть риски, совершенства нет. Но плюсов у искусственного интеллекта в медицине гораздо больше, чем минусов. Нужно акцентироваться не на минусах, а на преимуществах — с опытом минусов будет все меньше.