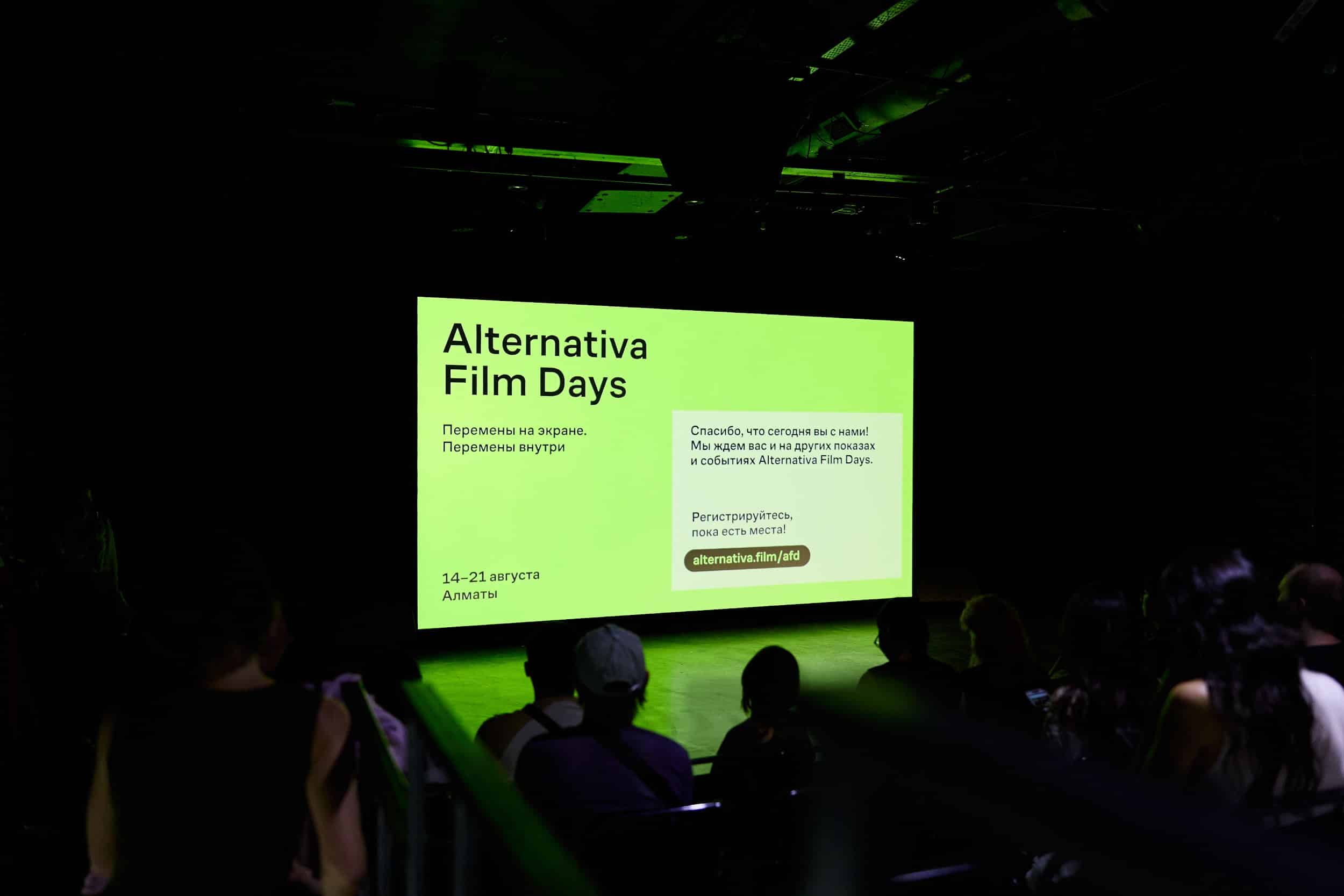
В Алматы во второй раз прошел фестиваль Alternativa Film Days, программа которого состояла из азиатских и латиноамериканских фильмов. Центральная Азия была представлена тремя картинами — казахстанскими «Мы здесь живем» и «Мадина» и кыргызстанской «Дар». Примечательно, что все были сняты женщинами. Помимо этого, они объединены сюжетами о семьях и местами съемок — природные локации играют в них не меньшую роль, чем сами люди. О том, за какие темы и проблемы взялось современное центральноазиатское кино, — в материале «Курсива».
Одной из самых сильных картин смотра стала документальная работа Жананы Курмашевой «Мы здесь живем». Отсылающая к одноименному «оттепельному» фильму Шакена Айманова про освоение целины, она рассказывает о людях, чьи жизни оказались неразрывно связаны с Семипалатинским ядерным полигоном. В следующем году будет ровно 35 лет с момента его закрытия, однако и в 2025 году он продолжает определять судьбы многих. Едва ли это место можно назвать зоной отчуждения, когда скот свободно забредает на его территорию, а в нескольких десятках километров от опасного соседа находятся жители аулов.

«Мы здесь живем» — кино вдумчивое, местами практически медитативное и немногословное. Его основной метод — неагрессивное, но внимательное наблюдение, лишь изредка прерываемое резкими кадрами-вспышками хроники ядерных испытаний под тревожную музыку (пожалуй, и без них эффект был бы достаточным: так, в память особенно впечатывается кадр заброшенного дома в степи с муралом картины Эдварда Мунка «Крик», наглядно передающим все ощущения от полигона).
В фокусе внимания Курмашевой находится семья Балтабеков, через три поколения которой рассказывается история полигона, и эколог Дмитрий Калмыков, один из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который занимается общественным мониторингом — замеряет уровни радиации в окрестностях, а также руководит Экологическим музеем в Караганде.
Сразу несколько сюжетных линий вполне можно было бы развернуть на полноценный мини-сериал. Несмотря на небольшой хронометраж фильма, «Мы здесь живем» охватывает несколько значимых вопросов — от бытовых и сугубо практических (борьба с чиновничьей бюрократией, которая не признает заболевание младшей дочери семейства Балтабеков, уже четвертого поколения жителей близ Семипалатинска, следствием ядерных испытаний) до современных политических (по радио передают новости из Украины и заявления НАТО о ядерных вооружениях). И наконец — экзистенциальных.
Окутанная невидимым врагом степь становится еще одним полноправным героем картины, и сцены природы напоминают то, что французский философ Жак Деррида назвал призракологией (hauntology), — парадоксальное присутствие и отсутствие некоего призрака. Кажется, именно в таком состоянии существует полигон сегодня. Эту тень истории пытается осмыслить ага, начинающий писать книгу о людях из его прошлого — некоторые из них стали жертвами радиации.
После показа на обсуждении прозвучали комментарии о безысходности и депрессивности фильма. Действительно, ближе к финалу мы видим параллельный монтаж из кадров могильных плит и людей на массовом собрании — получается что-то вроде визуализации высказывания memento mori. Однако настоящий оптимизм картины кроется в ее главных героях, каждый из которых продолжает делать то, что делает, и надежда на лучшее все равно сохраняется.
Интересно, что содержание игровых фильмов «Мадина» и «Дар» рифмуется с «Мы здесь живем» (такие параллели обычно происходят в любой хорошей фестивальной программе) — это и образы семьи, и желание героев изменить обстоятельства, которые сильнее их. Причем, по словам авторов, оба были вдохновлены реальными событиями, так что и они существуют на своеобразном стыке с документальным кино.

«Мадину» сняла Айжан Касымбек, создательница нашумевшего «Огня» с Тулепбергеном Байсакаловым. В ней рассказывается о матери-одиночке из Актау, которая днем дает уроки хореографии, а вечером сама выступает в танцевальных шоу. Она безуспешно добивается алиментов для дочери, а дома ее ждут апа и тихий младший брат Рауан. Он мечтает уехать в Америку и ради этого посещает курсы ораторского мастерства, чтобы пройти собеседование для визы.
Атмосфера приморской тоски (долгие выразительные кадры города у воды, окрашенного в синие цвета, снимала операторка Айгуль Нурбулатова, работавшая над недавно вышедшим роуд-муви Joqtau) неожиданно напоминает российскую картину Николая Хомерики 16-летней давности «Сказка про темноту», особенно когда вспоминаешь, что и там главная героиня, замкнутая милиционерша, посещала уроки танцев. Правда, визуальная поэтическая сторона фильма оказывается сильнее драматургической. Ближе к финалу сюжет сворачивает в несколько неожиданном направлении, и на первый план выходит история Рауана. А может, Айжан Касымбек лишь подчеркивает тем самым уязвимость и безвыходность положения героини.

Про гендерные стереотипы рассказывает и фильм «Дар» кыргызстанской режиссерки Дальмиры Тилепберген. 7-летняя Арно живет вместе с семьей у высокогорного пастбища. Ее отец мечтает, что шестой ребенок будет долгожданным сыном — до этого рождались только девочки, которые практически постоянно чувствуют себя лишними. Поэтому Арно носит мальчишескую одежду и играет с местными пацанами, возможно, желая таким образом угодить отцу.
Однако прежний мир с его традициями постепенно разрушается — в горах нашли золото, а значит, скоро земля перейдет во владение иностранных бизнесменов. Семье Арно ничего не останется, кроме как принять эту новую жизнь — долгожданную и одновременно горькую.
Фильм выглядит скорее набором небольших сцен-зарисовок (на втором плане есть колоритные персонажи вроде одноглазого погонщика и спивающегося родственника, который поет песню о «голубом шаре» из советского фильма «Юность Максима»). Но «Дар» во многом обретает целостность благодаря талантливой игре Жаннат Куручбековой в главной роли — непослушная, упрямая, в то же время самостоятельная Арно отчаянно пытается понять, кем же она хочет быть. На лос-анджелесском фестивале Stars Asian Internnational Film Festival ее наградили как лучшую актрису.
Кстати, не зря герои «Мадины» и «Дара» покидают свои родные места (кто-то по своей воле, кто-то нет). В этом смысле все три фильма немного повторяют эту судьбу. Помимо показа на Alternativa Film Days, у них было вполне успешное мировое фестивальное турне, не ограниченное только регионом Центральной Азии.
Так, «Мы здесь живем» участвовал в творческой лаборатории Берлинале и был показан, например, на канадском фестивале документального кино Hot Docs. Сейчас его, как и «Дар», можно посмотреть на платформе Freedom Media, а еще один показ в Алматы состоится на фестивале Qyzqaras 30 августа. «Мадина» участвовала на фестивалях в Токио, Лос-Анджелесе и Измире, а «Дар» был представлен на кинорынке Венецианского кинофестиваля. Международная арена по-прежнему остается важным показателем для любой кинематографии, и мы видим, что Казахстан и Кыргызстан есть кому на ней представлять.













