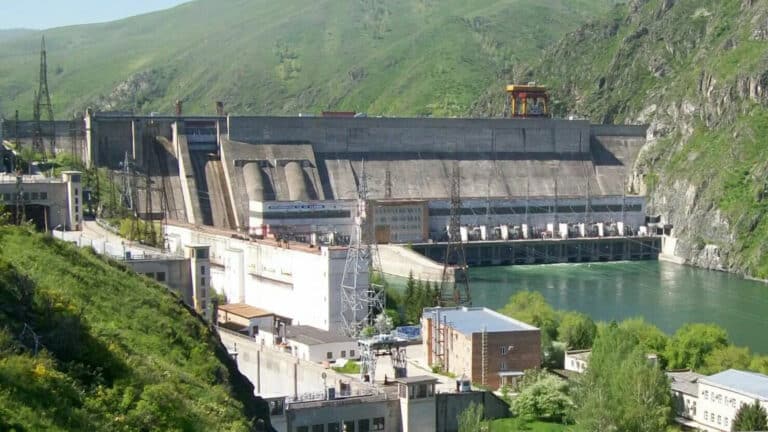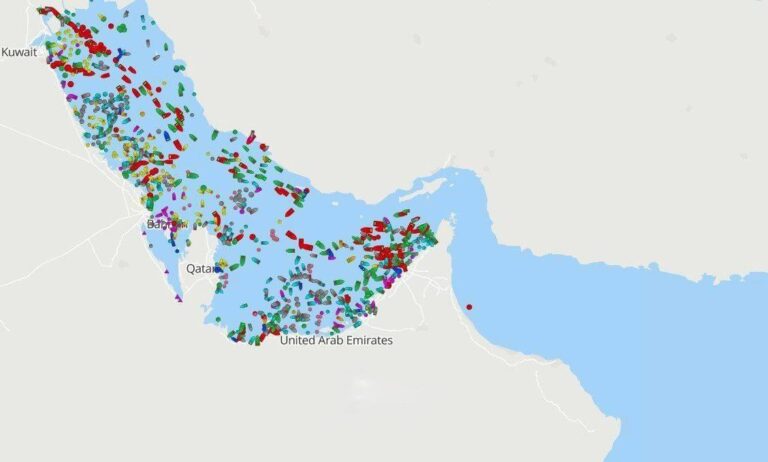Послание Президента Касым-Жомарта Токаева задает курс на глубокие изменения не только в экономике, но и в общественном договоре.
О том, почему в привлечении инвестиций предсказуемость важнее льгот, как цифровизация меняет психологию налогоплательщика и почему «Справедливый Казахстан» – это, прежде всего, реформа доверия, мы беседуем с доктором Омером Баришем, ассоциированным профессором Высшей школы государственной политики, PhD по экономике (Университет штата Джорджия, США) и специалистом в области поведенческой экономики и теории социального выбора.

–В своем Послании президент Токаев анонсировал новый Налоговый кодекс, призванный сформировать «новую ментальность налогоплательщиков, основанную на честности и прозрачности». Насколько, на ваш взгляд, традиционные модели контроля, основанные на принуждении, сегодня уступают место более современным подходам, апеллирующим к психологии и доверию?
— Что восхищает в этом сдвиге мышления, так это то, что Президент Токаев неявно признает: соблюдение налогового законодательства – это не только вопрос принуждения. Это вопрос психологии, социальных норм и доверия.
Дело не в том, что традиционная модель «сдерживания» неверна – она выполняет свою базовую функцию. Но, как показывает мировая практика, один лишь страх наказания не может в долгосрочной перспективе поддерживать высокий уровень добровольной уплаты налогов. Что действительно работает гораздо эффективнее, так это то, что мы называем «налоговой моралью».
Люди платят налоги добровольно, когда воспринимают систему как справедливую, легитимную и взаимную. Если граждане верят, что их взносы используются прозрачно и справедливо, они соблюдают закон как акт гражданского участия, а не как обязательство, основанное на страхе. Справедливость и взаимность формируют налоговое поведение гораздо глубже, чем угроза аудита.
– Но одной справедливости, наверное, недостаточно? Послание делает большой акцент на упрощении и цифровизации.
– Это второй важнейший компонент. Сложность – это сама по себе «тихий налог». Когда правовой кодекс и нормы слишком фрагментированы и сложны, возникает «перегрузка выбора». Люди сталкиваются с множеством форм, неясными шагами и неопределенностью. Когда люди перегружены или напуганы, это порождает как умышленное, так и неумышленное несоблюдение. Не потому, что люди нечестны, а потому, что они дезориентированы.
Упрощение снижает эту «когнитивную нагрузку». Поэтому интеграция всех налоговых обязательств в единый цифровой интерфейс изменит правила игры. Поведенческое решение здесь – сделать честность самым простым вариантом.
Внедрите предварительно заполненные декларации – модель, которая блестяще сработала в Эстонии и Дании. В этих системах большинство налогоплательщиков просто подтверждают уже внесенные данные. Уровень соблюдения растет не потому, что люди боятся наказания, а потому, что поступить правильно – легко и интуитивно понятно.
– То есть цифровизация – это в первую очередь инструмент упрощения?
– Не только. Другой ключевой ингредиент – это цифровое доверие. Люди хотят знать не только, сколько они должны, но и что они получают взамен. В этом суть взаимности.
Когда люди видят, куда идут их налоги, – скажем, через понятные онлайн-панели, показывающие, как доходы прошлого года профинансировали новые школы или больницы, – они связывают платеж с общественным благом. Эта ментальная связь очень сильна. Она трансформирует уплату налогов из потери в содействие. Слова Президента о том, что «каждый тенге должен возвращаться обществу в виде качественных госуслуг», попадают точно в цель.
Мы также видели по всему миру, что даже небольшие вознаграждения или социальное признание могут кардинально изменить нормы. Людям нравится, когда их считают ответственными гражданами. Цифровой бейдж, благодарственное сообщение – это запускает репутационную мотивацию. Как говорят поведенческие экономисты, «сделайте соблюдение закона престижным».
Если новый Налоговый кодекс Казахстана учтет эти инсайты – сделает процесс простым, прозрачным и справедливым, – я очень оптимистичен в том, что он действительно сможет сформировать «новую ментальность», о которой говорит Президент Токаев. Это и есть построение «Справедливого Казахстана» не через наказание, а через доверие.
– Перейдем к инвестициям. Глава государства поставил задачу их привлечения, в том числе через преференции. Но в Послании также делается акцент на «Законе и Порядке». Насколько для инвестора важна предсказуемость правил, которую обеспечивает сильная государственная политика?
– Это фундаментальный вопрос. Когда экономисты говорят об инвестициях, они часто делают упор на прибыль, налоговые льготы или субсидии. Этот взгляд ставит прибыль единственным мотивом. Но с точки зрения теории индивидуального и социального выбора это лишь часть истории.
Инвесторы не просто максимизируют ожидаемую прибыль. Они максимизируют ожидаемую полезность в условиях неопределенности относительно стабильности политики. Высокая ожидаемая прибыль мало что стоит, если правила игры могут измениться в одночасье.
Когда Президент Токаев подчеркивает важность «Закона и Порядка» , он не просто использует моральный язык – он сигнализирует об институциональном доверии. Общество, которое последовательно обеспечивает «Закон и Порядок», выстраивает коллективное ожидание справедливости: что контракты и права собственности будут соблюдаться завтра так же, как и сегодня.
В теории игр мы называем это «фокальной точкой». Стабильные правила координируют ожидания инвесторов лучше и эффективнее, чем налоговые льготы. Поэтому в современной теории роста предсказуемость сама по себе является экономическим активом.
– Еще одна чувствительная тема, поднятая в Послании, – социальное иждивенчество. Как специалисту по анализу благосостояния, каким вам видится дизайн госполитики, который бы поддерживал нуждающихся, но одновременно поощрял трудолюбие и ответственность?
– Это действительно деликатный баланс. В анализе благосостояния мы называем это балансированием справедливости с «совместимостью стимулов». Роль государства – предоставить «сеть безопасности, а не гамак».
Во-первых, важны таргетирование и ясность. Помощь должна быть прозрачной и справедливой, а не произвольной. И она должна быть обусловлена усилиями – например, активным поиском работы или участием в программах обучения.
Во-вторых, программы активации и переобучения могут превратить пособие из «трансфера» в «инвестицию». Поведенческая экономика показывает, что люди лучше реагируют на возможности, чем на обязательства. Программы, сочетающие финподдержку с наращиванием навыков, посылают сигнал: «Мы поддержим вас, пока вы встаете на ноги, но цель – независимость».
В-третьих, дизайн стимулов должен сделать работу «настройкой по умолчанию». Нужно избегать так называемого «обрыва благосостояния» – точки, когда, зарабатывая чуть больше, человек внезапно теряет всю поддержку. Плавное снижение помощи делает выход на рынок труда психологически менее затратным.
В конечном счете, социальная политика должна культивировать «взаимную ответственность»: государство гарантирует безопасность, а граждане отвечают взаимностью через участие. Эффективные системы не просто перераспределяют доход – они перераспределяют достоинство.
– Ваши исследования посвящены «достаточно хорошему управлению» (Good Enough Governance). Курс реформ Президента Токаева можно назвать амбициозным, но прагматичным. Насколько такой эволюционный подход, основанный на реальных возможностях, оптимален для модернизации госуправления в нашем регионе?
– Я бы назвал курс Президента амбициозным, но эволюционным, и, учитывая ограничения нашего региона, он близок к оптимальному.
Ключевая идея «достаточно хорошего управления» в том, что вам не нужно чинить все сразу. Вам нужно чинить правильные вещи в той последовательности, которую ваше государство способно реализовать. Наши исследования показывают, что для Центральной Азии политическая стабильность является доминирующим столпом роста.
Лучше эффективно исправить несколько важных вещей, чем гнаться за многими и потерпеть неудачу, преследуя «слишком длинный, слишком амбициозный и слишком нереалистичный» список реформ.
Логика должна быть такой: стабильность – прежде всего, затем – целенаправленные институциональные обновления. Операционно для Казахстана это означает: ) Относиться к политической стабильности как к экономическому активу. ) Зафиксировать предсказуемость в отношении контрактов и прав собственности. ) Затем наслаивать выборочные реформы там, где ограничения наиболее очевидны.
Это не «второсортная» стратегия; это эффективный путь к долговечной модернизации в Центральной Азии.
– В заключение: насколько, на ваш взгляд, Казахстан может быть успешен в сочетании экономической модернизации с построением справедливого общества и укреплением доверия?
– Я считаю, что у Казахстана есть реальный шанс на успех именно потому, что стратегия Президента Токаева является эволюционной, а не революционной. Она признает, что модернизация – это не только привлечение инвестиций или построение цифровой инфраструктуры; это восстановление доверия.
Доверие – это самый ценный социальный капитал и «множитель реформ». Без него даже хорошо продуманная политика не приживается; с ним – постепенный прогресс превращается в реальную трансформацию.
Критически важной частью повестки является снижение чрезмерной роли государства в экономике. Президент прямо сказал: «значительная часть организаций все еще действуют с участием государства», и действия многих из них «не выдерживают критики и часто бросают вызов логике». Он призвал к полному аудиту и выходу госсектора из коммерческой деятельности.
Идея не в приватизации ради приватизации, а в умном разделении труда: государство как регулятор и гарант справедливых правил, а не доминирующий игрок рынка. Этот подход отражает логику «Справедливого Казахстана»: чем меньше государство вытесняет инициативу, тем больше у граждан и бизнеса пространства для создания ценности.
Если правительство будет поддерживать эту обратную связь (реформа → доверие → реформа), Казахстан действительно сможет достичь того, что Президент Токаев назвал «Справедливым Казахстаном»: общества, где процветание и справедливость усиливают друг друга, а не конкурируют.